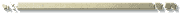
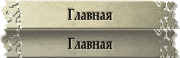

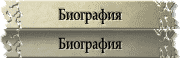

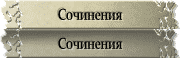

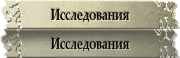
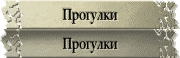
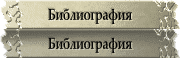
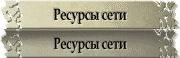
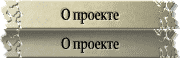
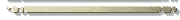
Повесть деcятая
ВОЛОСЫ, КРИЧАЩИЕ НА ГОЛОВЕ
– В Витебске встретил я на улице доктора из нашего повета пана М. Случилось так, что оба мы приехали в город по своим делам. После беседы о том, о сём, и доктор говорит:
– А где ты будешь обедать?
– Да где Пан Бог позволит, – отвечаю. – За деньги в городе везде легко найдёшь обед.
– Пойдём в трактир Карлисона, там всегда подают отменные блюда.
– А не дороговато ли будет для шляхтича?
– Не дороже, чем у других; а если и будет стоить чуть больше, так зато и повкуснее: не след экономить на себе.
Я согласился. Заходим в большой зал – там уже было несколько господ, ели, курили трубки, смешили друг друга, выставляя напоказ изъяны и странности своих знакомых; издевались над всеми подряд, не щадя ни женщин, ни стариков.
Сидя за столом, с удивлением смотрел я, как эти вертопрахи старались щегольнуть своим остроумием, хохотали во всё горло и, подходя к зеркалу, оглядывали себя с головы до ног.
– Неплохо иногда побывать в трактире, – сказал доктор. – Тут люди смелее снимают с себя маски, и можно доподлинно увидеть, кто каков.
Едва он это произнёс, заходит высокий человек, волосы густые, взъерошенные, глаза беспокойные, лицо полное, бледное, будто в нём разлилась желчь и вода. Все посмотрели на него. Он сел на диван и, схватившись за голову, застонал:
– Нет им покоя.
Потом попросил подать стакан рома, выпил половину и, будто задумавшись, сидел несколько минут молча; потом встал и оглядел себя в зеркале, положил руку на голову и говорит:
– О! теперь хотя бы не шевелятся и замолкли ненадолго.
Все с удивлением смотрели на него, а мой товарищ сказал:
– Ты, как видно, нездоров, может, страдаешь от головной боли? Не думаю, чтобы ром мог помочь – лишь ещё больше себе навредишь.
– Я не просил у тебя совета.
– Я доктор, это моя обязанность.
– Доктор, а моей болезни не знаешь. Скажи мне лучше, какая смерть самая лёгкая? Нет у меня надежды на выздоровление, хочу умереть.
– Моя наука призвана продлевать жизнь человека, а не открывать пути к смерти. Смерть сама придёт к нам.
– Смерть сама придёт к нам, это правда, но кто об этом не знает?
– Да, эта правда всем известна, но не все о ней думают.
– Кому жизнь мила; но тем, кто мучается так, как я, не о чем жалеть на свете.
– Так что за боли мучат тебя?
– Волосы, волосы отравили жизнь мою!
Когда он это говорил, со стороны, где сидела компания веселящихся приятелей, послышался смех и донеслись слова:
– О! А не режь волос, не порти кос!
– Нечего было их отрезать; без них и взаимные чувства рвутся.
– Ишь, надоели ему волосы – отхватил ножницами, а они при свете месяца ожили.
– Славно волосы запели, да не мог их оценить.
– Глядите, глядите, ему на голову светит солнце, и волосы шевелятся, как живые.
Услыхав эти остроты, бедняга гневно посмотрел на насмешников, ничего не говоря, вскочил с места и пошёл в их сторону.
Те паны сразу похватали шапки. Выходя, один из них произнёс:
– Бывай здоров, пан Генрик! Пей больше рому, и всё будет хорошо!
– Вот до чего дожил, – сказал Генрик, обернувшись к доктору. – Стал я посмешищем для бесчувственных людей, смешно им чужое несчастье. Всюду, где только их ни встречу, стараются увеличить мои страдания и издеваются над горестями, выпавшими на мою долю.
– Очень уж чувствительные у тебя нервы, – сказал доктор, – коль обижаешься на легкомысленных людей. Я, сидя тут и слушая, как лихо, не жалея колких слов, поносили они всех своих городских знакомых, ясно понял, что это за люди.
– Когда-то я был совсем другим, равнодушно слушал и смех и стоны, ничто не беспокоило мои нервы – волосы, волосы разрушили всю мою сущность!
Замолчал, будто прислушивался к чему-то и вдруг, показывая на свои волосы, воскликнул:
– Вот, один запел и остальные зашевелились... скоро закричат все вместе. Вы не видите, что делается на моей голове!
Он схватил стакан, чтобы выпить остатки рома.
– Послушай моего совета, – сказал доктор. – Прикажи подать воды и сахара; смешай их с ромом, по крайней мере, будет меньше вреда. Но я советовал бы тебе совсем отказаться от такого лечения.
Тот взял стакан, встал перед зеркалом, пощупал рукою волосы, пожал плечами, потом повернулся к доктору, посмотрел на него тревожным взглядом и говорит:
– Откажусь, если найдёшь способ лучше; но первый твой совет не отвергну.
Сказав это, он попросил подать воды, выпил стакан пунша.
– Расскажи мне о своей жизни; если бы я знал, с чего начались твои страдания, может, придумал бы способ, как прекратить их.
– Может, отыщешь способ вернуть прошлое?
– Прошлое учит нас, как пользоваться настоящим.
– Моя болезнь новая; ни простые люди инстинктивным путём, ни наука медиков не открыли лекарства, чтоб её вылечить. Однако вижу, что ты искренне хочешь помочь мне в беде; потому расскажу тебе о тех бедах, что довелось мне пережить.
У родителей я был один. Детство моё текло беззаботно, мне ни в чём не отказывали, слуги исполняли все мои приказы, домашний учитель преподавал мне основы французского языка самым лёгким способом – чтоб я, занимаясь один час, не утомился и не заглушал в себе весёлых мыслей, которые в светском обществе ценят больше глубоких познаний в высоких науках.
Когда мне было лет пятнадцать, отец отправил меня в Ригу на один год, чтобы я изучал там немецкий и французский языки у лучших учителей да чтоб приобрёл хороший вкус в тех предметах, что окажутся мне полезными среди людей, о которых идёт молва в светских салонах.
Денег он мне оставил более, чем достаточно, и я лишь собирал цветы весёлой жизни. Никто мне в ту пору не напоминал, что время уходит безвозвратно, здоровье человека ненадёжно и, к несчастью, переменчиво, а веселье счастливых лет быстролётно, как мечта.
Когда вернулся я из города домой, то с утра до вечера был занят лишь охотой. Мой отец не жалел расходов на охотников, борзых и гончих собак. Мне было позволено держать столько людей для услуг, сколько захочу; были у меня красивые лошади и модные экипажи.
Через несколько лет был я избран от местных помещиков на должность в том же повете. [1] В городе я нашёл множество приятелей; в моём доме часто были шумные и весёлые пиры, порой гости мои за вином или за карточным столом встречали восход солнца.
Прошло четыре года; родители мои ушли в лучший мир, а я, вернувшись домой с намерением заняться хозяйством, нашёл своё наследное имение в долгах. Съехались ко мне кредиторы отца и с угрозами напоминали о займах, суд требовал невыплаченные подати по имуществу за несколько лет. Я почувствовал опасность и тогда впервые задумался о страшном будущем.
– Тебе надо жениться, – сказал мне мой сосед. – Панна Амелия, дочь комиссара, который сейчас управляет имениями пана Г., девушка красивая, хорошо воспитанная, к тому же я слыхал, что за ней дают приданое больше десяти тысяч рублей серебром. Отец её сколотил порядочный капитал, исполняя должность комиссара и доверенного лица, а что он не в родстве с тутошними ясновельможными панами, которые делают, что хотят во время выборов местных чиновников, [2] так ты на это не смотри. В твоих обстоятельствах нужны деньги, а не фамильные связи, которые, по моему мнению, всё равно тебе не пригодятся.
Вижу, что совет моего соседа – истинная правда; понравился мне его выбор, и попросил я его о помощи. Десяти тысяч рублей серебром, а хоть бы даже немного меньше, было бы достаточно, чтоб спасти моё имение от долгового бремени. А к тому ж о высоких достоинствах дочки пана комиссара я и раньше слыхал от многих господ. И вот, не откладывая дела в долгий ящик, поехали мы вдвоём в дом её родителей.
Увидев Амелию в первый раз, я понял, что о её чудесных достоинствах говорили правду: стан такой стройный, что с неё можно было бы написать прекрасную картину, в лице сказывался кроткий характер, в голубых очах отражалась тихая меланхолия и какая-то прекрасная мечтательность. Беседуя с нею о будущем и об изменчивом счастье на этом свете, понял я, что воспитана она в смирении, верит в предчувствия и в неразгаданные тайны природы. Сосед мой открыто рассказал её матери и отцу о состоянии моих дел и обо всех нуждах моего имения. Родители и дочка ответили мне согласием. После свадьбы я чувствовал себя счастливейшим из людей – и жену привёл в дом, и выплатил все долги.
Ах! почему я не верил предчувствиям! Доктор, согласен ли ты, что чуткая человеческая душа способна услышать в тихом голосе ангела гораздо больше, чем то, что доступно мудрости, приобретённой наукой и опытом?
– Я тоже заметил это, – ответил доктор, – но такой инстинкт встречается не у всех людей.
– Отчего же не хотел я верить чуткому сердцу Амелии?
– Так что же случилось, и чем всё это кончилось?
– На протяжении трёх лет мы оба были счастливы, и хотя по причине несходства некоторых наших мнений между нами иногда случались споры, однако всё всегда заканчивалось спокойно. Амелия, видя моё упрямство, вскоре находила иную тему для беседы, лишь бы только избежать разлада.
Как-то весной стоял погожий вечер, и мы вышли на прогулку в ближайший лес. Вокруг слышалось пение птиц. По пути Амелия часто умолкала и будто впадала в какие-то печальные думы.
– Вижу, – сказал я, – что томит тебя какое-то предчувствие, ибо ты что-то всё грустишь и то и дело прерываешь беседу.
– Правда, напала на меня какая-то тоска, сама не знаю почему.
– Песни соловьёв и кукушек действуют на твои нервы.
– Может быть, – ответила она тихим голосом.
Во время разговора вижу я, как с левой стороны, идя через лес узенькой тропкой, приближается к нам какой-то сгорбленный старец в чёрной одежде. Лицо бледное, яркие глаза светились из-под густых бровей, за плечами висела корзина, накрытая старою чёрною сермягой. Мне стало интересно, кто этот странный человек и откуда идёт. Когда он подошёл поближе, я спросил:
– Кто ты, дедушка, и откуда идёшь?
Он, снимая с головы старую рваную шляпу и низко кланяясь, ответил:
– Живу, где придётся, ищу милостивых ко мне добродетелей и вечно воюю с суевериями и выдумками людскими.
Этот его ответ пробудил во мне желание продолжить разговор.
– С чего же, – спрашиваю, – началась эта война с суевериями и людскими выдумками?
– Всё из-за того, что люди не понимали ни меня, ни своей выгоды. Я обошёл весь свет, знаю все человеческие нужды, раскрыл самые сокровенные тайны природы, хотел принести облегчение жителям этого неурожайного и убогого края, но они вместо благодарности осыпали меня проклятиями, нигде не давая мне покоя и приюта.
– Что же ты делал, – говорю, – жителям нашей земли?
– Хотел сделать добро, но из-за доброты своей дважды должен был спасаться от преследования. Не могу забыть, хоть уже прошло двадцать и ещё сколько-то лет: научился я искусству получения золота, хотел усовершенствовать свой способ и открыть его тутошним жителям. У пана ***, богатого человека, неподалёку от Полоцка было имение и дом в городе, где он жил. Там он отвёл мне маленький уголок для занятий и совершенствования моей науки. Но со мной приключился ужасный случай: уходя, я оставил дверь незапертой, а на столе в бумажных пакетиках у меня лежали белые порошки, необходимые для многих вещей в моей науке. Жена пана ***, зайдя в мою комнатку, взяла один пакетик с порошком, думая, что это лекарство. У неё болела голова, и она приказала подать стакан воды, высыпала туда порошок, выпила и сразу же умерла. Преследуемый судом, невиновный, вынужден я был бежать и искать приюта в ином месте.
Поселился у пана *** и хотел посвятить его в великие тайны. В полночь на кладбище было испытание, но этот пан и его слуга, который был нужен для помощи, оба, не имея сил выдержать испытание великим делом, лишились чувств. Опасаясь преследования, оставил я их лежать на кладбище – бежал, никогда уж не показывался в тех местах и на веки вечные зарёкся открывать миру свои секреты.
Тут, прерывая рассказ пана Сивохи, Завальня сказал:
– Помню, недавно один проезжий рассказывал мне о чернокнижнике, который учил пана *** делать золото, а слуга его, Карпа, носил под мышкой яйцо, снесённое петухом, и вырастил змея; должно быть, это тот самый чернокнижник. Рассказывай же скорее дальше, всё это очень интересно.
– Генрик, видя, что мы с доктором внимательно слушаем историю его жизни и не обращаем внимания на трактирную прислугу, что, стоя поблизости, смеялась и болтала о чём-то, продолжил, не вставая с места, свой рассказ:
– А что там у тебя в корзине под сермягой? – спросил я.
– Кролики, – ответил он. – Несу их с собой, и если какой-нибудь милостивый пан пожалует мне где-нибудь пустующий дом, то буду их там выращивать. Они быстро расплодятся, и вскорости у меня будет, чем прокормиться в моём несчастном положении.
– Открой корзину и покажи нам своих кроликов.
Едва открыл он корзину, как Амелия отшатнулась и в ужасе закричала:
– Ах, ах! какие жуткие нетопыри! закрой, закрой их скорее, смотреть не могу на эти страшидла!
Я посмотрел на неё с удивлением, ибо и в самом деле видел маленьких чёрных кроликов, а старец, бросив на неё быстрый взгляд, сказал:
– Приглядись, пани, получше; это маленькие чёрные кролики, просто они ещё пока не выросли.
И, взяв одного из них за уши, вынул из корзины.
– Ах, ах! какой страшный нетопырь! сделай милость, не показывай, спрячь его в корзину, не хочу и не могу я смотреть на эту мерзость.
Думая, что причина этого нелепого страха – какой-то странный каприз и упрямство Амелии, я приказал старцу, чтоб шёл переночевать в фольварк, а утром ему будет выделено какое-нибудь обиталище. Он поклонился и пошёл прямо в имение.
Домой с прогулки возвращались молча. Амелия была очень взволнована, бледная, со слезами на глазах. Я смотрел на неё с удивлением и гадал, почему она перечила столь очевидной правде? Я же своими глазами видел маленьких кроликов. Наконец, прервав молчание, говорю:
– Так что ж, Амелия? и теперь ещё будешь доказывать, что у этого старца в корзине были нетопыри? Странный каприз пришёл тебе в голову, издеваться над старым человеком и обвинять его во лжи.
– Не хотела я, – отвечает, – обижать его, но как же мне не верить своим глазам.
– Жаль, что ты огорчила бедного старца. По его разговору можно понять, что этот человек от природы одарён большим умом, образованный, да только несчастливый.
– Взгляд и лицо у него страшные... Зачем было его останавливать, пусть бы шёл себе дальше.
– Удивляет меня сегодня твой странный характер. Я остановил его не на короткое время; дам бедняге приют, будет жить у меня в имении, покуда сам захочет.
Амелия не сказала на это ни слова. Спор наш окончился, и мы молча вернулись домой.
Неподалёку от имения, над рекой, стоял одинокий домик, окружённый тёмным еловым лесом. Ещё во времена моего отца жил в нём со своей семьёю один крепостной, которого позднее я переселил в ближайшую деревню, а поле, что он пахал, присоединил к землям своего имения. На следующий день я проснулся рано и привёл старца в пустующий дом, чтобы был у него на склоне лет свой приют. Он поблагодарил меня и выпустил посреди хаты из корзины своих кроликов.
Жил он одиноко; временами бродил в одиночестве по полю либо в тени лесов; по ночам не спал, появлялся в разных местах в чёрной одежде, будто страшное привидение. Крестьяне, встречая его при свете месяца, боялись подходить, убегали, как от упыря, и по всей околице о нём ходили странные слухи. Рассказывали, будто в полночь над крышей его дома видели большую стаю нетопырей, а на его зов к нему прилетали совы и вóроны.
Слыша эти выдумки простого народа, я только смеялся. Потом полюбил навещать одинокое пристанище старца, порой беседовал с ним по несколько часов; осенней порою слушал, как шумели над крышей его хаты старые ели, смотрел на его лицо, на котором всегда присутствовала весёлая усмешка. Под его окошком на песчаном пригорке среди сосен жил большой выводок чёрных кроликов, которые то прятались под землёй, то вновь выскакивали из своих нор. Глядя на всё это, я чувствовал в себе какие-то перемены, и душа моя погружалась во мрачные думы.
Амелия не хотела его видеть и не любила, если кто-нибудь вспоминал о нём; я, наоборот, с удовольствием беседовал с ним, и через несколько месяцев он получил надо мной такую власть, что я верил всему, что бы он мне ни сказал.
Однажды в конце сентября перед самым заходом солнца захожу в хату старца; за стеной выл осенний ветер, он, опершись на руки, смотрел на своих кроликов, которых было полным полно и в доме, и на дворе. Заметив меня, он встал с места и сказал:
– Странно, за всё то время, что живу в имении пана, обойдя все тутошние места, видел я в лесах разные деревья, а вот дубов поблизости совсем нет; лишь за несколько вёрст отсюда нашёл два столетних дерева этой породы, а вокруг молодые деревца, которые, я думаю, выросли из желудей, что раскидал там ветер.
– Я совсем не замечал этого, – говорю я. – Для хозяйственных нужд у нас хватает и иной древесины.
– Для использования хороши вяз и берёза, но что может быть прекраснее, чем видеть дубовую рощу? Эти деревья растут веками, и я советовал бы пану, прямо сейчас, осенью, приказать выкопать их и посадить на пригорке, который виднеется позади пруда в парке, и на котором сейчас не растёт ни одного дерева.
– Много лет придётся ждать, покуда они вырастут большие, и, верно, не доведётся мне увидеть на том пригорке высоких раскидистых дубов, ведь жизнь человеческая очень коротка.
Он сурово посмотрел на меня, так, что дрожь пробежала по телу, и, будто издеваясь, повторил мои слова:
– Жизнь человеческая очень коротка... Но к чему думать об этом? Пан ещё молод, у него хорошее здоровье, лет сто будешь жить на этой земле и в сени тех дубов веселиться с приятелями. Отбрось все печальные мысли, ты – пан, и всё должно служить для твоей пользы.
Я послушался его совета. На другой день приказал садовнику идти к старцу, который живёт над рекой возле елового леса, чтобы тот показал молодые дубки, которые надо перенести в парк и посадить на пригорке.
Садовник, услышав мой приказ, испугался, побледнел и сказал изменившимся голосом:
– Откуда пану пришли эти мысли? Дубы не цветут, и от плодов их нет никакой пользы; для украшения парков больше подходит липа, их и стоило бы посадить в на том пригорке.
– Я твоего совета не просил, – сказал я. – Слушай, что приказано, и исполняй.
– От стариков я слыхал, что тот, кто сеет жёлуди или сажает дубы, и года не проживёт. [3]
– Если ты ещё раз, – говорю, – повторишь мне эти глупости, то прикажу дать тебе пятьсот розг. Иди, делай, что велено.
Садовник, боясь дальше говорить со мной, вышел опечаленный и искал случая просить мою жену, чтоб она уговорила меня отказаться от моего намерения.
Вечернею порой, когда я на некоторое время покинул дом, он сам не свой зашёл в комнату к Амелии, со слезами на глазах упал ей в ноги и всё рассказал.
Когда я вернулся, Амелия встретила меня с улыбкой и сказала:
– Генрик, с чего ты решил сажать в парке дубы? Я не вижу в этом ни надобности, ни красоты. Бедный садовник пришёл ко мне страшно опечаленный, сказал, что от их пересадки наступит большое несчастье, ибо это дерево забирает силы у того, кто за ним ухаживает, а от этого укорачивается жизнь. Знаю я, что суеверия происходят от непросвещённости, но разве имеем мы право жестоко обращаться с людьми за то, что им не было дано должного образования? Надо употреблять более мягкие способы, чтоб отучить их от глупых суеверий, ведь чинить несправедливость ближним своим великий грех.
– Как вижу, – сказал я, гневно взглянув на неё, – ты такая же, как садовник; собралась защищать глупость, но напрасной будет твоя протекция.
– Верно, тот ужасный старец дал тебе этот совет; ну так поручи ему самому занять место садовника и сделать всё это самому, ибо всё равно ничем не занимается целыми днями, лишь бродит по полям и лесам.
– Люди мои. Как мне пожелалось, так и должно быть.
Когда я это сказал, из глаз Амелии ручьём потекли слёзы, и она сразу ушла в другую комнату.
Садовник, видя, что его надежда не оправдалась, привёз из леса молодые дубки и посадил их на назначенном месте. После этого он был всё время грустным; напрасно остальные убеждали его, что дубы не имеют никакого влияния на здоровье человека, он всё сох, силы его покинули и следующей весной, едва только те деревца покрылись листвой, он печально окончил свою жизнь.
После смерти садовника, когда я рассказал старцу о простоте этого человека, о его предрассудках и слабости характера, – тот глянул на меня, наморщил лоб, будто в знак презрения, и сказал:
– Тем лучше, о чём тут жалеть? У тебя вдосталь глупых людей – что с того, что потерял одного?
Другое злодейство этого старца ещё больше нарушило согласие и мир между мною и женой. Собрался я строить новый деревянный дом, но на фундамент не хватало кирпича. Желая восполнить недостачу, вышел я в поле и, гуляя там, выбирал подходящее место для кирпичной мастерской. Он же, встретив меня там, показал на кладбище и на старую часовню, что стояла на виду недалеко от имения, и говорит:
– На каком неподходящем месте устроили это кладбище! Из окна панского дома всегда видны деревянные кресты и часовня, что за отвратительный пейзаж! Приедут к пану соседи, средь них немало молодых да весёлых людей, а эти кресты и часовня всё время перед глазами – они каждого могут довести до скорбных мыслей и меланхолии. Я бы посоветовал пану назначить крестьянам место для кладбища где-нибудь подальше за лесом, чтоб человеческое око не так часто его видело; кирпич от часовни можно пустить на фундамент, а на этом месте посеять овёс, чтоб и следа не было, сто тут гниют зарытые кости умерших людей.
Я похвалил прогрессивные взгляды старца и его умение познавать характеры людей и тайны природы. И вот приказал немедленно снести деревянные кресты, собрать камни, что стоят на могилах, в кучу, разрушить часовню, а кирпич свезти в имение.
Напрасно мои крепостные, собравшись со всех деревень, просили, чтобы я не уничтожал часовню и не трогал того места, где покоится прах их родителей и прочей родни; напрасно противился отец-плебан, стараясь доказать, что я беру на свою совесть великий грех; напрасно старшие соседи в глаза попрекали меня, что отступаю от обычаев предков. Наконец Амелия, увидев, что все просьбы и уговоры оказались напрасны, тяжело огорчилась и сказала:
– Генрик, ведь эта часовня и кладбище были на этом самом месте ещё при жизни отца твоего и деда. На них эти кресты и могилы не наводили печальных мыслей, не раз они там на восходило и заходе солнца, преклонив колени, усердно молились за своих умерших крестьян. Так заведено во всём нашем крае, что кладбище устраивают на виду либо возле дороги, чтобы люди, встречая взглядом кресты и могилы, молились за души умерших. Верно, это тот злой старец дал тебе безбожный совет, но помни, Генрик, что Бог будет судить все наши дела.
– Не твоё дело! – ответил я в гневе. – Я знаю, что делаю; старец, которого ты называешь злым, смеётся над вашей глупостью; очень уж вы беспокоитесь о тех, кого уже давным-давно нет на этом свете.
И так я настоял на своём. Через два дня от кладбища не осталось и следа, а кирпич из часовни пустили на фундамент нового дома, в который через пару месяцев я и переселился.
С той поры я начал замечать, что характер Амелии всё больше меняется. Её глаза и лицо всегда были затуманены печалью; говорила, что в новом доме ей являлись привидения, снились страшные сны, а в полночь иногда слышала какие-то стоны. Утром и вечером она по несколько часов молилась, преклонив колени, и так изменилась лицом, что те, кто знал её раньше, теперь едва узнавали, хотя прошло всего несколько недель.
Когда я рассказал старцу о страданиях моей жены, он глянул на меня, кивнул головой и говорит:
– Как плохо ты, пан, ещё знаешь, что такое женщина! всё это не более чем упрямство да злоба из-за того, что не может она править мужем и делать всё по своей воле. Открыл бы я пану один секрет, что удалось мне раскрыть, да пусть уж лучше он навечно останется тайной моей души, ибо и так уже кое-кто поговаривает, будто именно я виновник разлада в вашей семье.
– Сделай милость, расскажи мне о нём, – говорю я. – Кого ж это может касаться больше, чем мужа?
– Я многим обязан пану, облагодетельствовал он меня, дал этот приют старику. Я встретил в жизни немало превратностей, прошёл через все испытания, научился хладнокровно смотреть на мир и постигать все тайны людских дум и поступков. Открою пану этот секрет, о котором знаю уже несколько месяцев, никому о нём я ещё не говорил – у жены пана на голове живые волосы.
– Никогда я ещё не слыхал о таких чудесах, – говорю я. – Не пойму, что это значит?
– Тогда расскажу всё по порядку, как я об этом узнал. Помню, как-то раз съехались в имение гости. День был тихий и ясный, вышли все тогда из дома и, пользуясь хорошей погодой, гуляли по полю. С паном шли двое пожилых господ, и были вы весьма заняты каким-то разговором, а жена пана шла впереди, в кругу молодых людей. Те во время беседы постоянно поглядывали на её косу. Когда подошли к роще, я, укрывшись за деревом, заинтересовался и решил присмотреться, почему это их взгляды прикованы к её волосам? Мой глаз зоркий, видит далеко, и я заметил, что при свете солнца волосы жены пана шевелились – и в косе и на всей голове. О! за этим делом, пан, нужен глаз да глаз, ибо есть на свете чудеса и чары; молодёжь на неё заглядывается и не понимает, что за сила разожгла в их сердцах чувства и беспокойство.
– Разве ж может такое быть? – спросил я с удивлением.
– Дело несомненное! Расскажу пану, как можно убедиться в истинности моих слов. Мало того, что у неё живые волосы, среди них на её голове есть один волосок, который после захода солнца, когда сумрак накрывает землю, кричит всю ночь аж до самого утра, и потому она может заснуть лишь на короткое время, часто просыпается, а по вечерам стонет и плачет. Когда она пойдёт в ту комнату, где обычно преклоняет колени и молится, ты, пан, тихонько подойди к ней и хорошенько прислушайся. А ещё лучше постарайся прислушаться в час ночной тиши, когда тот волос поёт громче всего.
Я был необычайно удивлён и встревожен; решил не спать всю ночь, лишь бы только узнать правду. Вечером, когда Амелия зажгла свечу и пошла в маленькую комнатку помолиться, я подошёл на цыпочках к приоткрытой двери, напряг ухо и услыхал писк, такой тонкий, будто комар, зудя, летает вокруг головы и ищет, где бы укусить. Слушал несколько минут, не двигаясь с места, потом так же тихо отошёл, не дожидаясь, пока она закончит свои молитвы.
После полуночи не ложился спать, а сидел в отдельной комнате за столом, раскладывая карты, будто хотел карточным гаданием узнать, исполнятся ли мои замыслы и желания. После полуночи, когда все заснули и везде стало тихо, я погасил свечу, захожу в спальню, словно ночной страх; окно в ней было наполовину закрыто. Амелия, постанывая во сне, лежала на кровати, лунный свет сквозь окно падал к её ногам, а в головах слышался писк, будто муха попала в паутину. Дрожь пробежала по моему телу. «Вот теперь узнал всю правду!» – подумал я и всю ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На другой день рано утром пришёл к старцу и всё ему рассказал.
– Теперь веришь, пан, что я говорил правду? – сказал старец, – Но это ещё не всё; надо употребить способ, чтобы эти живые волосы не притягивали к себе глаза молодых людей. Прикажи, пан, своей жене отрезать косу и ночью, пока петух не пропоёт, принеси её мне, а я позабочусь, чтобы ты ещё раз увидел чудеса своими собственными глазами.
Не знала Амелия и даже не подозревала о нашем уговоре и о моих ужасных замыслах. Встретив меня, сказала спокойным голосом:
– Что с тобою, Генрик? Отчего провёл ты эту ночь без сна? Допоздна сам с собой играл в карты, а на рассвете тебя уже не было дома.
– Не спал ночью и утром убежал из дома, ибо твои волосы, что кричат на голове, не давали мне покоя.
– Не понимаю я твоих слов и вообще впервые слышу про кричащие волосы.
– Шевеление твоих волос всем гостям понравилось.
– Скажи, Генрик, яснее, – говорит она, – не умею я такие загадки разгадывать.
– Скажу и яснее: хочу, чтоб ты остригла волосы; замужней женщине пристойней ходить с покрытой головой.
– Странный каприз пришёл тебе в голову.
– Может, и странный, но справедливый, – отвечаю. – Не хочу, чтобы ты хвалилась своею чудесной косой, которая чародейской силою притягивает к себе чужие глаза; так что будь добра, если хочешь видеть меня спокойным, прикажи обрезать себе волосы.
– Теперь понимаю, – сказала Амелия, – речь идёт о твоём покое.
Позвала служанку, приказала, чтобы та отрезала ей косу, и, заливаясь слезами, вышла в другую комнату.
Перед самой полночью, взяв с собой косу Амелии, я пошёл к одинокому жилищу старца. Он не спал, я видел, что в окне горел огонёк. Вхожу в дом: он сидел возле стола, опершись на руку, будто погрузился в какие-то мысли; в углах копошились чёрные кролики, их глаза пылали рубиновым огнём. Он поднялся с места и обратился ко мне:
– Ну что, пан, сделал, как я советовал?
– Сделал всё как надо, волосы жены у меня с собой.
Проговорив это, я достал из кармана косу и положил на столе перед ним.
– Ну вот, скоро, пан, увидишь чудеса.
Сказав так, он взял большую деревянную миску, налил воды и часть волос из косы положил в эту посуду. Некоторое время он стоял, пристально глядя на волосы; огонь на столе горел тускло, будто догорал, из-за чёрных облаков выглянул месяц, кинув через окно бледный луч. Неожиданно поднялся ветер, шум леса за окном нарушил тишину. Посмотрел я на старца – мне показалось, что его губы, бледные, как у покойника, шевелились, будто он что-то шептал: меня охватила тревога, по телу пробежала дрожь. Наконец он сказал мне:
– Подойди сюда и глянь, что творится.
Смотрю в миску и вижу чудо! Волосы, как живые, извиваясь в разные стороны, будто пиявки, двигались в воде. Задумавшись, я долго глядел на них. Наконец он вынес из дома миску с мокрыми волосами и остаток косы и всё это бросил в реку. И показалось мне, будто вижу я в свете месяца, что все они, извиваясь, плавали по водной глади.
– Теперь, пан, будь спокоен, – сказал мне старец после этого страшного испытания. – Больше эти волосы не будут тайною силой притягивать к себе глаза твоих гостей.
После этого моего страшного поступка Амелия долго плакала украдкой, и здоровье её с каждым днём стало убывать. По ночам она не могла уснуть, лишь только закрывала глаза, сразу чудились ей какие-то поднявшиеся из гробов привидения.
Однажды перед заходом солнца произошёл страшный случай. Амелия сидела в парке одна, но когда начали сгущаться сумерки, на траву легла роса, а воздух стал холодным и влажным, вернулась в свою комнату. Едва ступила на порог, как закричала истошным голосом и упала, словно мёртвая. Сбежались все, подняли её, в лице ни кровинки; уложили на кровать и едва смогли вернуть ей дыхание.
Когда она пришла в себя, то рассказала, что увидела тогда пред собой того чёрного старца в жутком обличии: кровавым огнём светились его очи, в руке держал большой нож и грозил ей смертью.
Увидев, до какой степени нарушено её здоровье и ослаблены нервы, почуял я, наконец, жалость в сердце и послал скорее за доктором.
Каждый день в город бегали посланцы с рецептами, употребили все средства медицины, чтоб вернуть ей силы. Прошло несколько дней, лекарства были бесполезны, улучшения здоровья не принесли, а лишь еще больше ослабили её да добавили мучений.
Родители, узнав об опасной болезни своей дочери, приехали навестить её. Она захотела продолжать лечение в родительском доме, и доктор посоветовал то же, надеялся, что может тогда к ней вернётся покой, и лекарство будут лучше действовать.
Я согласился с этим, и Амелия с отцом и матерью уехала из моего дома, обещая вернуться, как только поправит здоровье.
А через три дня я получил письмо с чёрной печатью. Пробежав его глазами, увидел слова: «Амелия закончила свою печальную жизнь вчера в пятом часу по полудню».
Едва я прочёл это, как вдруг волосы на моей голове зашевелились и начали страшно кричать. Жуткий ужас охватил меня, наконец я увидел, до какого несчастья довёл меня тот злобный старец. Хватаю заряженный пистолет, бегу с намерением пристрелить его на месте... едва открыл дверь, как из пустого дома вылетела огромная стая нетопырей и со страшным писком начала метаться в воздухе над крышей хаты и вокруг деревьев, а старца и его кроликов уже и в помине не было.
Покинул я свой дом, страшно было в нём жить, страшно выйти в поле и видеть луга, пригорки и леса, ибо повсюду появляется пред моими глазами чёрная, как у сатаны, фигура ужасного старца.
– Вот, доктор, исповедь моей жизни.
Немного помолчав, он положил руки на голову и, глядя в зеркало, сказал:
– И сейчас волосы шевелятся и кричат. Ну что, знаешь ли ты способ помочь мне в беде?
Доктор, стараясь утешить его, пригласил к себе, дал свой адрес, и вскоре мы вышли из трактира, а тот остался там. Через два дня я уехал из Витебска и больше не видел этого человека.
– Ужасный старец! – сказал Завальня. – Не тот ли это чёрт, которому Твардовский приказал оживить тело Гугона? Является теперь в разных концах света, чтобы вредить роду людскому.
– Страшную историю рассказал пан Сивоха! Но у меня нет такой хорошей памяти, – сказал Лотышевич. – Много слыхал разных рассказов, но что сегодня услышу, то утром забуду.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] До 1831 г. в Витебской и Могилёвской губерниях продолжал действовать Статута Великого Княжества Литовского, согласно которому местная власть избиралась представителями шляхты на поветовых сеймиках.
[2] О злоупотреблениях на сеймиках писал, например, Ф. В. Булгарин в романе «Иван Иванович Выжигин»: «В старину богатый помещик привозил с собою, на нескольких телегах, бедных, но буйных и вооруженных шляхтичей, заставлял их выбирать себя и своих приятелей в разные звания, бить и рубить своих противников. Это называлось “золотою вольностью”».
[3] В некоторых местах Беларуси у простого народа существует поверие, что тот, кто посадит дуб или посеет жёлуди, сокращает свою жизнь, так как его сила переходит к растущим дубам, которые он посадил и за которыми ухаживал. – Прим. авт.
Последнее обновление: 26 сентября 2007 г.
Copyright © 2007 Dmitry O. Vinokhodov
Copyright © 2007 Dmitry O. Vinokhodov

